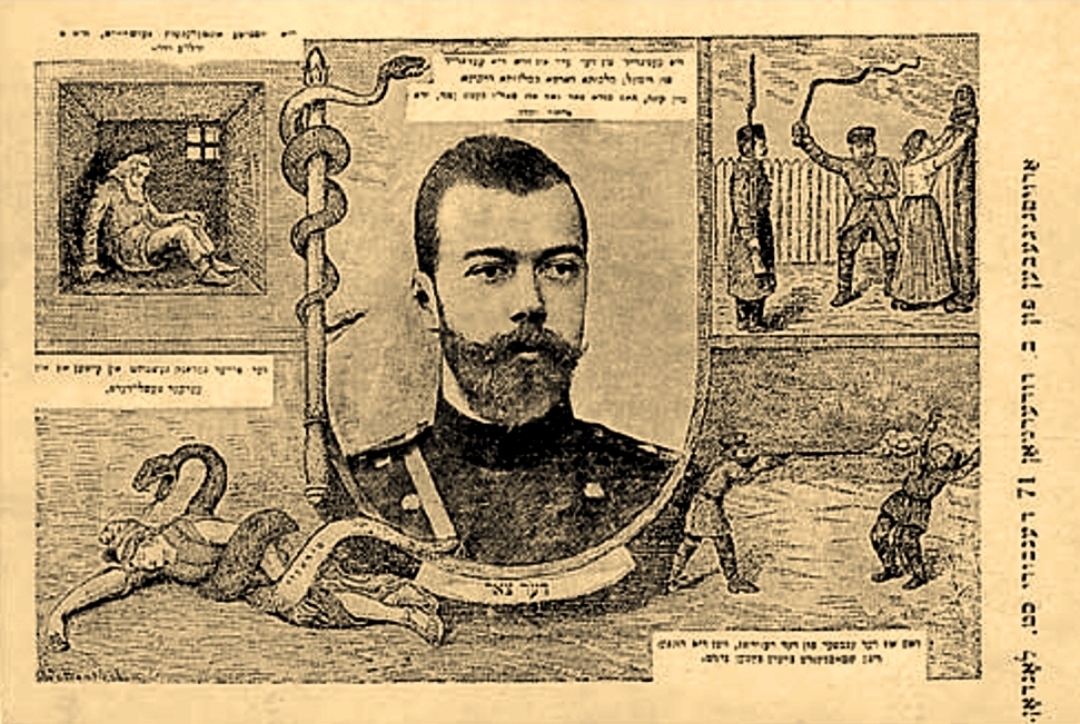Летом 1997 года мы были на так называемой зональной практике, идея которой в том, чтобы показать почвоведу различные природные зоны, сменяющие друг друга по мере продвижения по широте (широтная зональность). От зоны к зоне отличается климат, растительность и, конечно, почвы. Дерново-подзолистые сменяются серыми лесными, серые лесные чернозёмами, чернозёмы, по идее, каштановыми почвами, ну и распространёнными на югах солонцами и солончаками. Практику обычно сопровождают три преподавателя: по геологии, растениеводству и почвоведению. Традиционно, с советских времён, почвоведы СПбГУ проезжали с севера на юг через Украину в Крым. Моя жена, которая училась на 2 курса старше и ездила в зоналку в 1995 году, застала перемещение на арендованном автобусе, с заездом в Асканию-Нова, а потом на Арабатскую стрелку. У нас всё было по-другому: на севастопольском поезде мы доехали из СПб сразу до Симферополя, оттуда на электричке до станции Почтовая, и от станции в кузове грузовика до деревни Трудолюбовка Бахчисарайского района.
В Трудолюбовке находилась база геологического факультета СПбГУ: на бетонных основаниях стационарные палатки, и несколько одноэтажных зданий. На базе мы прожили десять дней, выезжая в разные части Крыма – на Чатырдаг копать горные почвы, на станцию Сиваш копать (точнее, долбить) солонцы и смотреть солончаки, на экскурсии по южному берегу с посещением Никитского ботанического сада и купанием в Ялте, а также просто искупаться на пляже в Песчаном, в том же Бахчисарайском районе. Отдельная экскурсия была по окружающим Трудолюбовку горам, с посещением пещерного города Бакла.
Основным населением лагеря были геологи, а где геологи, там разврат; об этом я уже писал в заметке “Авторская песня“. Местные жители продавали красное вино в трёхлитровых банках, стоило это тогда 6 гривен за литр. Вино было хорошим, можно было спокойно разбавлять вдвое, и приятно пить. Особо популярным был винодел Александр Григорьевич с улицы Севастопольская, дом, кажется, номер шесть. После практики я записал песню (есть аудиозапись 1997 года на яндекс-диске в моём исполнении под гитару, но к этой теме, наверное, позже), навеянную Александром Григорьевичем, начинавшуюся словами:
Здесь иногда бывает иней,
Здесь иногда бывает снег,
И здесь живёт, живёт поныне
Ещё не старый человек.
И дверь открыта днём и ночью,
Всего лишь стоит постучать.
Здесь бог велел, на этой почве,
Его лозе произрастать.
Питие вина, как известно, ведёт к разврату; я религиозный человек (как писал когда-то мой сын в своих мемуарах, “отец был довольно религиозен”), и не могу сказать про себя, что в Трудолюбовке меня это совсем не коснулось, но воспоминания скорее негативные. Негативные, но очень острые. Много лет после практики Трудолюбовка тянула меня к себе, однако не тянул сам Крым – миграционные карты, чужая валюта и ощущение себя не дома были факторами, вносящими в отдых на своей по сути земле весомый элемент унижения. Но, как известно, Путин сделал нам небольшой подарок, и ровно через 20 лет после практики работающий как часы паром перевёз нас в Крым, а УАЗик возил везде, где захотим. После галечных пляжей Коктебеля захотелось песка, и я предложил поехать заселиться в Песчаное, помня тамошние песчаные пляжи. После заселения ждало разочарование – за 20 лет весь песок в Песчаном размыло, и пляжи были ещё хуже коктебельских. Во время поездки в Бахчисарай мы посетили и Трудолюбовку.
Шёл август, и студентов на базе СПбГУ уже не было. Хранила базу Елена Павловна Каюкова, по-видимому, гидрогеолог.

Она с пониманием отнеслась к моим ностальгическим чувствам, и провела экскурсию по базе. Жену я тоже представил, как ностальгирующего почвоведа, но молчал, что жена эту базу впервые видит – их программа зональной практики была совсем другой.

Палатки, в которых мы жили, несколько лет назад были заменены на новые – старым был не один десяток лет, и они просто истлели.


Наши палатки в 1997 году, в принципе, выглядели похоже.

Помню, помню эти бетонные дорожки.

На фото выше виден подъём на так называемую “горочку” – это одно из мест для разврата.
А на фото ниже самое примечательное, что изменилось на базе: появились индивидуальные туалеты с унитазами. До этого были общие туалеты с дыркам в полу. Вот сидишь в нём такой после похода на Баклу, и заходит Юрий Николаевич Нешатаев, выдающийся геоботаник. И тебе немного неудобно. А сейчас эта проблема решена.

Здесь, кажется была столовая:


А здесь помещения для камеральной обработки:



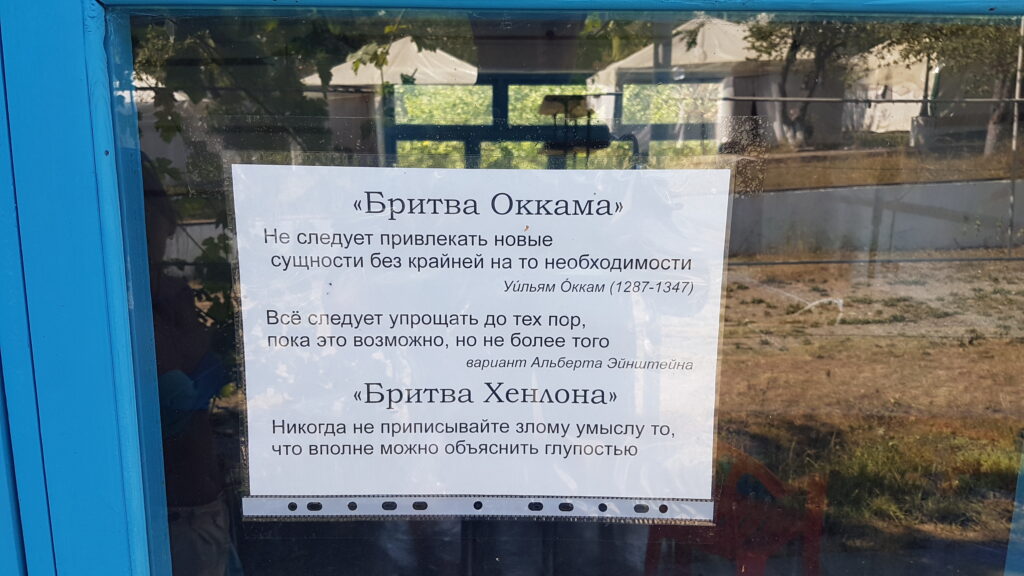

С Еленой Павловной мы поговорили, и у меня сложилось впечатление, что она не поддерживает присоединение Крыма к России. Это так удивительно для много лет проработавшего на базе человека, но так неудивительно для российской интеллигенции! Причины она прямо не формулировала, говоря полунамёками, из которых можно было понять, что пока база была на территории Украины, она России была нужна, а когда стала Россией, отношение к базе стало другим. На первый взгляд, это парадоксально, но если подумать глубоко, то некоторый нехороший смысл тут можно найти.
На память я взял с базы упавшее на землю с дерева яблочко; оно засохло в машине, стало маленьким и лёгким. Уже больше пяти лет оно ездит со мной в подлокотнике, как частица трудолюбовской земли. Честно говоря, меня туда тянет ещё. Какая-то часть души осталась там, хотя и не самая основная.